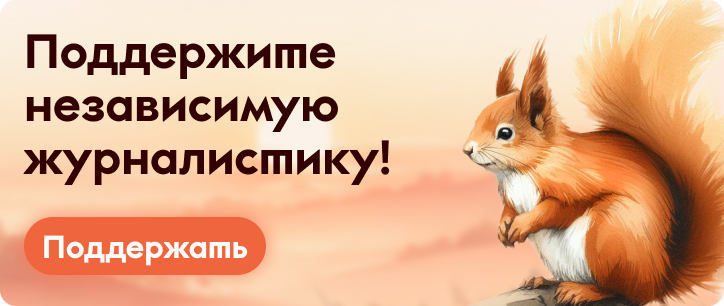Историк и журналист Алексей Кузнецов ответил на десять «школьных» вопросов об истории специально для «7х7». В их числе — в чем отличие истории от пропаганды, как и почему переписываются учебники истории и может ли история быть объективной.
Зачем переписывать учебники истории?
- Если отвлечься от текущей ситуации, в переписывании учебника нет ничего крамольного. Учебники устаревают. Причем, как правило, не с точки зрения содержания. Страны, которые не так озабочены собственной историей, как наше богоспасаемое отечество, меняют учебники, когда появляются более совершенные в методическом плане версии. Потому что у очередного поколения учеников и их родителей появляется запрос на более подробное освещение какой-то темы.
Да, идеологические изменения тоже происходят. Американские учебники первой половины XX века иначе, чем сейчас, освещали колонизацию Северной Америки и отношение к коренному населению европейских переселенцев.
Особенность нашей страны заключается в том, что у нас это [переписывание учебников] происходит в последнее время систематически. Я проработал в школе с конца 1980-х до конца 2010-х и видел несколько десятков учебников. На первый взгляд, причина кроется в том, что меняется государственная идеология, и под нее пишется новый учебник. Но если присмотреться, обнаруживаются другие вещи.
Несколько лет назад одно высокопоставленное государственное лицо заявило: “Тема присоединения Крыма в 2014 году в учебниках истории недостаточно освещена”. Буквально на следующий день выныривает издательство, специализирующееся на учебниках, и говорит: да, мы так и думали, и у нас уже готов учебник, в котором эта тема освещена подробнейшим образом. Нужно быть очень прекраснодушным человеком, чтобы не заподозрить издательство в пополнении своего бюджета. Ну а что касается государственных деятелей, они могут находиться в таинственной связи с этим издательством. И возможно, у них есть какие-то интересы.
Эти две причины – “колебания партийной линии” и рыночные интересы – не исключают друг друга.
- В новых учебниках истории чего больше: идеологии или руки рынка?
- По содержанию невозможно увидеть руку рынка – нужно смотреть не в текст учебника, а в обстоятельства выпуска: когда он появился, чьи политические заявления предшествовали его выходу.
В советское время учебники выдерживали по 14-16 ежегодных изданий. И если проходил очередной пленум или съезд, где обсуждалось что-то судьбоносное, в каждом новом издании появлялся кусочек параграфа об этом событии. Так всегда было, просто сейчас масштабы переписывания другие.
Кто и как выбирает автора и какие материалы ложатся в основу учебника истории?
- Я не знаю, как это происходит на самом деле. Как это должно происходить? Объявляется конкурс, в котором принимают участие издательства. Из своих авторов они формируют авторские коллективы, исходя из того, кто лучше, быстрее, дешевле напишет учебное пособие по определенному набору требований.
Я допускаю, что в случае с учебниками истории вопрос, какое издательство будет победителем конкурса, заранее решен. По крайней мере, так было до недавнего времени, пока не осталось, по сути, одно издательство – “Просвещение”. Возможно, часть заказа, включая имена ответственных редакторов, приходит сверху. А может, издательства настолько развили у себя верхнее чутье, что им и указывать не надо, они и так знают, кто правильный.
- Знаете ли вы, в какой момент и как было принято решение, что очередной учебник истории напишет Владимир Мединский?
- Я не знаю. Но Владимир Ростиславович давно оседлал отрасль, которую мы условно называем историческим просвещением. Он председатель Российского военно-исторического общества, курирует патриотическое кино – возможно, и другие отрасли искусства, занимающиеся патриотическим воспитанием. В бытность свою министром культуры Мединский активно занимался темой истории. Сейчас он советник президента. У него степень доктора исторических наук, которой он чуть не лишился, но не лишился же.
Почему история – это наука, и что в ней научного, если у каждой страны есть своя история, а может, и не одна?
- Я постоянно сталкиваюсь с комментариями: “Да ваша история не наука”, “В вашей истории ничего нет, кроме пропаганды”. Незаметно для подавляющего большинства людей смешиваются историческая наука и исторический нарратив – рассказ о событиях, который, если за него берется государство, не может не иметь пропагандистских черт. Но даже если государство самоустранится, свято место пусто не бывает – общество сформирует свой запрос. А общественное сознание, к сожалению, предпочитает жить мифами. И вот люди переписывают нарратив, к которому историческая наука имеет очень отдаленное отношение.
Историю не нужно сравнивать с биологией, химией или физикой, потому что в истории нет и не будет непреложных закономерностей. История имеет очень ограниченные возможности прогноза на будущее. Приятели ко мне периодически пристают: “Ты же историк, расскажи, что будет”. Я отвечаю – приходите лет через 20, я вам расскажу, что было и почему по-другому быть не могло. В человеческой истории ничто не повторяется с абсолютной точностью еще раз.
История — наука, потому что у нее есть научные методы. Как и любая наука, она стремится к отысканию истины. Но, как во всех гуманитарных науках, эта задача сложнее, чем у биологов и физиков, потому что субъективизм убрать нельзя. Если нам, по большому счету, все равно, каких взглядов придерживается физик, потому что добросовестный ученый выводы получит одни и те же, будь он либералом или консерватором, то в истории это невозможно. Нужно стремиться к объективности.
Как понять, где историческое событие описано достоверно, а где чья-то личная или коллективная версия, миф?
- Это очень трудная задача. Для школьников почти неподъемная в силу их возраста и отсутствия жизненного опыта. Да и взрослые люди, чтобы обладать этой способностью, должны учиться и тренироваться.
Есть вспомогательная историческая дисциплина “Источниковедение”. Она как раз учит работе с информацией и попытке определить, где в материале чье влияние, где чьи интересы, где заимствования и откуда и прочее. Я не могу дать простых рекомендаций, чтобы можно было послушать и с завтрашнего дня понимать, где в школьном учебнике истории правда, а где не совсем правда.
В истории России есть так называемые “трудные вопросы”, при обсуждении которых исследователи спорят. Удалось ли им за последние годы найти ответы, как было на самом деле?
- Все зависит от того, какую глубину исследования мы задаем, потому что любой мало-мальски проблемный период превращается сразу в несколько трудных вопросов. Поэтому, кстати, я бы не стал от школьного учебника многого требовать.
Школьный учебник рассчитан на массового, маленького, не обладающего жизненным опытом потребителя. Над любым автором, даже самым добросовестным, висит связка дамокловых мечей: сделать понятный и не занудный учебник, уместить программу в жесткий объем, чтобы книгу можно было положить в рюкзак и не согнуться под его тяжестью.
Говорят: не надо никаких учебников истории, давайте публиковать сборники документов. Такие есть, но ребенок не способен работать с хрестоматией без пояснительного текста. Сегодня дети могут не понимать, что такое облучок, что такое тулуп. Можно опубликовать директиву маршала Тимошенко с планами по оккупации стран Балтии. Но что получится?
Конечно, нужна понятная, разъясняющая книга. Какие-то споры в учебнике невозможны. Зато возможны вопросы и дополнительные задания, которые заинтересованный, квалифицированный учитель, работающий в заинтересованном, мотивированном классе, сможет использовать как дополнительную форму работы на уроке. Например, предложить спор: декабристы – преступники или святые? Есть мощнейшая аргументация в пользу обеих версий. И так по каждому вопросу.
Какие, по вашему мнению, есть ТОП-3 спекуляций в истории России о каких-либо событиях?
- Есть фейк от министра юстиции РФ Константина Чуйченко, который на форуме в Петербурге сказал: «Декабристы все были помещиками и владели крепостными, но, извините, никто из них не освободил своих крепостных. А между тем Бенкендорф, руководитель охранного отделения, это сделал». Александр Христофорыч Бенкендорф, шеф корпуса жандармов, на самом деле не освобождал крестьян, это липа. Как неправда и то, что декабристы хорошо жили на каторге и в ссылке.
Еще я очень люблю тему событий 1939-1940 годов, войны, которую мы называем Советско-Финской, а Финляндия – Зимней, плюс других войсковых и полувойсковых операций. Об этом говорят – “освободительный поход”. Ни в коем случае не Вторая мировая война. Там еще товарищ Сталин в апреле 1940 года объяснил, что СССР не финнов победили, а весь мир, потому что финны воевали при поддержке оружием со стороны Великобритании и Франции. Мне это что-то напоминает из современности.
Третье, тоже из любимых, – люди любят поговорить о 1990-х годах: как либералы прогадили страну, как при Ельцине народу погибло больше, чем при Сталине. Цитирую одного умника в комментариях: “Только по официальным данным, убыль населения составила 15 млн”. Я посмотрел официальные данные – 1,3 млн. Часть из которых эмиграция, которая принимала серьезные масштабы, например, в науке. А кроме того, еще за 20 лет можно было предсказать сокращение населения, потому что это были внуки военного поколения.
Почему в одних странах разговор о массовых репрессиях идет открыто, а другие страны до сих пор отрицают репрессии или даже оправдывают?
- Можно порассуждать, почему это не произошло в России, я скажу так: до недавнего времени нам казалось, что есть страны, где точка невозврата к тоталитарному или авторитарному прошлому пройдена безвозвратно. Но сейчас в Германии, насколько я могу судить, заметно поднимает голову крайне правое настроение. Хотя казалось бы, это лучший пример нации, которая сделала работу над ошибками. Еще 20 лет назад невозможно было представить себе немца, который будет одобрительно говорить о Гитлере и отрицать Холокост. Я так понимаю, сегодня такие разговоры в стране звучат все чаще и чаще, по-прежнему приглушенными голосами. Но я пессимист в этой сфере, у меня нет ощущения, что это будет сохраняться надолго. Смотрите, как во Франции, которая нахлебалась при нацистском режиме, прут крайне правые. И даже в Соединенных Штатах Америки, в оплоте свободы слова, в последнее время что-то не то происходит со свободой слова, там поднимают голову люди ультраконсервативных взглядов.
Можно ли уважать национальное достояние и одновременно признавать исторические преступления и ошибки своей страны?
- Разумеется, можно, и мне кажется, что нет более очевидного способа демонстрировать уважение к национальному достоянию, чем признавать ошибки.
Чье чувство мы будем больше ценить: человека, влюбленного в другого человека без памяти, или человека, который видит недостатки любимого или любимой, но при этом ценит за другие вещи? Мне кажется, вместо того, чтобы бить себя пяткой в грудь, кричать на каждом углу “Можем повторить” и что все вокруг нам зла хотят, нужно трезво смотреть на себя.
В литературоведении было такое понятие: “гоголевский смех”. Смех горький, сардонический, саркастический. Гоголь видел, что представляет собой Россия, и блестяще описал ее. Но ведь невозможно усомниться, что он был привязан к стране, даже когда находился на другом конце Европы. А что касается России, я бы не путал, цитируя другого классика, Салтыкова-Щедрина, “Отечество” и “ваше превосходительство”.
По отношению к каким странам уместно говорить о советской оккупации? Можно ли сказать, что Россия была оккупирована СССР?
- Давайте разделим вопрос на две части. Он сложный.
Слово «оккупация», как и многие другие слова, существует по меньшей мере в двух измерениях. Одно измерение – это удел юристов, потому что оккупация – определенный политико-правовой и военный режим. На этом поле специалисты спорят о границах термина, о том, какие признаки являются обязательными для того, чтобы мы что-то назвали оккупацией, какие признаки являются факультативными, какие указывают на отсутствие оккупации и так далее. Это чисто академический спор.
В массовом сознании и, конечно, в пропаганде государства, слово «оккупация», как и целый ряд других, например, “геноцид”, используется для того, чтобы разговаривать о мифах и даже не пытаться разобраться. Уровень разговора — “Ты оккупант - сам ты оккупант”.
Очень трудно найти страны, веками имеющие общую сухопутную границу, где не было бы периодов взаимной оккупации. Эти отжали приграничную область и на какое-то время ее оккупировали. Те ее вернули и до кучи забрали еще немножечко. В истории любого мало-мальски могущественного государства мы такие примеры найдем.
Что касается советской власти, то почти все будущие союзные республики в свое время прошли через процедуру, которую с большими или меньшими натяжками можно назвать оккупацией. Иногда совсем без натяжек, как, например, события Советско-Грузинской войны в начале 1920-х годов, когда армия зашла на территорию Грузии и установила советскую власть. А вот было ли дальнейшее оккупацией? Была ли Грузинская СССР в 60-х и 70-х годах оккупированной территорией? Я бы не взялся однозначно ответить. Большинство руководителей республики были тем, что называлось “национальными кадрами”. В республиканских школах и высших учебных заведениях преподавание велось на грузинском языке. С оккупации начиналось, а потом переросло во что-то другое. И так по каждой республике надо смотреть отдельно.
Мы можем говорить про разные исторические периоды, что, действительно, одна страна захватывала другую, потом происходило наоборот и так далее. Но когда мы подходим к началу 20 века, понимание слова “оккупация” было другим. Именно поэтому оно чаще звучит.
- Наверное, потому что люди в 20 веке в среднем острее воспринимают несвободу.
Если мы на машине времени перенесемся во времена Василия III, например, и поговорим с крестьянином, со служивым человеком, мы узнаем, что они были зависимы, но не переживали по этому поводу. В то время нужно было быть чьим-то. Помните реплику из «Иван Васильевич меняет профессию»: «Чьих будешь?» Это действительно важнейший вопрос того времени. Чей ты? От ответа зависит, как мы к тебе будем относиться.
В 20 веке люди к свободе и к независимости, в том числе и государственной, относятся уже совершенно по-другому. Это естественно.
Почему Россия в 1990-е годы не пошла по пути десоветизации, и до сих пор в каждом городе есть улица Ленина?
- Этот вопрос лучше бы задать социологам и социальным антропологам, а может быть, отчасти политологам. А я могу только предполагать. Мне кажется, те, кто руководил в 1990-е годы страной, может, опираясь на опросы общественного мнения, может интуитивно, хорошо представляли, что есть темы, которые трогать не надо. Пожалуйста, перезахоранивай царскую семью. Но Ленина выносить из Мавзолея не надо, потому что это вызовет дополнительную напряженность.
Вот заведешь разговор о несовершенствах советского времени, и каждый второй тебе возразит: “Ну да, конечно, а сейчас-то лучше, что ли”. Ностальгия по советскому – это не только вкус пломбира за 48 копеек, потому что к пломбиру много чего прилагалось. Особенно это заметно у поколения, которое никогда при СССР не жило, а сейчас рассказывает, как любой мог получить квартиру бесплатно, а сейчас ипотеку рабскую приходится тянуть. Очень забавно, я не вступаю в эти дискуссии.
Во времена, когда Ленин был еще жив или только умер, фольклористы записали народные сказы о том, как у Ленина был друг, главный комиссар продразверстки, и долго Ленин не знал, чем он занимается, как крестьян простых грабит. А когда узнал, лично его наганом и порешал. Люди живут мифами.
Может ли история быть объективной?
- Она не может быть абсолютно объективной. Можно говорить только о стремлении, об уровнях приближения к этой объективности. Это не только истории касается, а гуманитарных наук вообще. Мы не можем быть объективны, изучая себя и себе подобных, мы неизбежно будем субъективны, считая, что другой человек должен думать, как мы.
Кроме того, человеческое общество настолько сложно устроено, что для его изучения требуются гораздо более точные инструменты, чем те, что есть в распоряжении историков. А у нас их нет. В истории эксперимент почти невозможен. Норвежский исследователь Тур Хейердал доказал, что в древности были возможны морские походы. Но так можно сделать не во всех областях, да и результаты его эксперимента оспариваются.
Поэтому нет, история всегда будет субъективна, привыкните к этому. Но самое главное, я прошу, не путайте науку историю с историческим нарративом, с очередным кратким курсом истории.